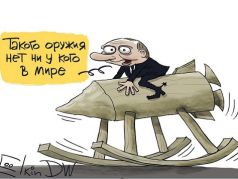Антидемократический режим в соседней Беларуси существует с 1994 года, то есть он появился на год раньше, чем в России. По своей жесткости этот режим всегда превосходил российский. Многими людьми неоднократно было отмечено, что в политике нашей страны повторяются процессы, происходившие в свое время в Беларуси, — с определенным лагом.
Придя к власти в 1994 году, Александр Григорьевич Лукашенко (кстати, на те президентские выборы он шел как кандидат от... демократических сил — тогда его выставили в противовес популисту Шушкевичу и номенклатурщику Кебичу) начал, по сути, восстанавливать плановую экономику — с целым рядом рыночных и псевдорыночных особенностей. Тогда же Лукашенко напоролся на жесткое противодействие общества, попытавшись одним махом отменить социальные льготы.
Последние несколько лет многим чиновникам и политикам в России (как проправительственным, так и оппозиционным) стало казаться, что белорусский "неоплан" является эффективной, социально-ориентированной системой, нацеленной на устойчивое развитие белорусского общества. В подтверждение этому обычно приводится большое количество статистических показателей. Вспоминают об экономическом росте, начавшемся еще в 1995 году; указывают на тот факт, что Беларусь быстрее других бывших республик СССР достигла докризисного (1989/1990) уровня подушевого ВВП; дают цифры потребления различных товаров и услуг и роста этого потребления. До недавнего времени России вменялась в образец разветвленная социальная система, охватывавшая более половины жителей страны. Но, нахваливая белорусское чудо, мало кто вспоминает о его источниках: очень крупной нефтегазовой субсидии, ежегодно отдаваемой Россией; деятельности частного бизнеса; мощных транзитных потоках. Внешнеэкономический грант, чьи размеры доходили до 15 процентов ВВП, так и не был существенно сокращен Россией и тем более не был уничтожен — Владимир Путин побоялся лишиться одного из немногих сателлитов в СНГ. Приводя же одни статистические данные, сторонники "неоплана" забывают о других. Изучив сайт белорусского Центра Мизеса, можно найти немало доказательств того, что уровень и качество жизни белорусов растут не столь быстро и хорошо, как это могло бы быть при иной экономической системе, а в некоторых областях развития и вовсе наблюдается регресс. Столь долгому сохранению и относительно хорошему развитию неоплановой экономики способствует и наличие сильного государства, которое белорусы, в отличие от России, сумели сохранить.
В долгосрочной перспективе, разумеется, и неоплановая экономика, и полицейская автократия в Беларуси обречены. Проблема заключается в сроках и цене их ухода с исторической сцены. Когда в 2006-2007 годах Россия стала уменьшать для Беларуси экономические преференции и, как показалось, над Беларусью нависла угроза потери нефтегазового внешнеэкономического гранта, когда Евросоюз и США стали принимать меры экономического и политического характера против режима Лукашенко — рост экономических показателей стал падать, усугубились многие экономические проблемы, и власти нехотя начали проводить ограниченные реформы. По признанию белорусского экономиста и политика Ярослава Романчука, выполнено 15 процентов Национальной платформы бизнеса Беларуси. Отменен институт "золотой акции", власти дали согласие на начало приватизации, немного уменьшилось бюрократическое бремя, регуляторное давление на бизнес. Однако при сохранении существующих отношений бизнеса и власти, при отсутствии обратной связи между обществом и государством даже робкие, ограниченные реформы не дадут хорошего результата и не выведут Беларусь на траекторию устойчивого развития. Иными словами, создание современной экономики невозможно без смены нынешнего режима и построения правового демократического государства. Возможные дальнейшие реформы, которые могут проводиться при сохранении режима, будут таить в себе немалую опасность: процессы экономических преобразований могут обречь Беларусь на отставание и превратят ее в олигархическо-авторитарное failed state. Вместо расцвета надежного института частной собственности страна может получить олигархию по российскому образцу. Система неравных условий ведения бизнеса, заключающаяся в наличии льгот, преференций, квот, субсидий, ограничений, разрешений, лицензирования и прочем, может сохраниться, будучи лишь "реформированной", и глубокого дерегулирования экономики ожидать в таком случае не стоит. Возможное сокращение государственных расходов (что является только частью необходимой в будущем бюджетной реформы) будет происходить не за счет государственного предпринимательства, субсидирования предприятий, трат на силовые ведомства, а за счет социально значимых сфер: образования, здравоохранения, соцобеспечения, науки, культуры.
Белорусская оппозиция, в отличие от российской, не в пример мощнее и популярнее среди избирателей, несмотря на то, что репрессии в отношении белорусских несогласных на порядок жестче, чем в России, а упоминания об оппозиционерах в СМИ, практически полностью подконтрольных государству, очень редки и в подавляющем большинстве своем нелестны. Тем не менее о деятельности оппозиции знают достаточно широкие слои населения. Но также хотелось бы отметить, что Александр Григорьевич Лукашенко правит страной уже пятнадцатый год.
Большинство оппозиционных организаций образуют коалицию Объединенных демократических сил (ОДС) Беларуси. Партии и движения, входящие в эту коалицию, достаточно мощны, чтобы позволить объединиться в таком формате и весьма успешно сообща работать (коалиция ОДС, кстати, выставила единый список кандидатов на предстоящие парламентские выборы). Объединению очень разных оппозиционных сил способствовало действие в стране жесткого авторитарно-полицейского режима, пытающегося выгнать независимые политические силы с легального политического поля. Основу коалиции ОДС составляют четыре партии:
- национально-патриотического толка — Белорусский народный фронт, БНФ;
- либерально-демократического толка — Объединенная гражданская партия (ОГП) Беларуси;
- социал-демократического толка — Белорусская социал-демократическая партия (БСДП) "Грамада";
- коммунистического толка — Партия коммунистов Беларуси (ПКБ).
В недрах Объединенных демократических сил и отдельных партий разработан ряд законопроектов и программ политического, экономического, социального характера. Думается, что для депутатов Национальной ассамблеи России могут представлять особый интерес социально-экономические проекты, разработанные оппозицией в соседней стране. В частности, хотелось бы отметить следующие документы:
- Экономическая Конституция Республики Беларусь (проект),
- Экономическая платформа Объединенных демократических сил на переходный период (до трех лет) (проект),
- Послание Объединенной гражданской партии гражданину, бизнесу и государству,
- Законопроект "О малом и среднем предпринимательстве",
- Законопроект "О государственных социальных гарантиях",
- Обоснование законопроекта
- Концепция пенсионной реформы в Республике Беларусь (проект).
В среде объединенной белорусской оппозиции можно встретить приверженцев разных идеологий, выразителей разных взглядов. Автору этих строк как депутату Национальной ассамблеи отрадно видеть, что либералы, коммунисты, социал-демократы, национал-патриоты, христианские консерваторы и другие сумели разработать общие программы и законопроекты. Если прочитать экономико-социальные законопроекты и документы оппозиции, то можно понять, что они направлены на создание современной смешанной рыночной экономики — системы, работающей в наиболее развитых странах мира, в передовых государствах планеты, которые являются примером для подражания как для правителей, так и для оппозиционеров многих стран. Программы, с которыми белорусская оппозиция идет к народу, содержат здравые предложения, реализация которых поможет белорусам подобрать собственный национальный баланс в экономике между частной инициативой и государственным вмешательством. Либертарианцы из ОГПБ не предлагают провести реформы в "австрийском" духе; грамадяне не ратуют за проведение глубоких социал-демократических преобразований; коммунисты не выдвигают коммунистических лозунгов. Объединенной оппозицией предлагаются современные рецепты работающей системы, причем работающей весьма неплохо. Оппозиция декларирует и свободу предпринимательской деятельности, и государственное регулирование экономики, и разумную социальную политику. Версия балансизма, которая может быть реализована в Беларуси в случае победы оппозиции, будет довольно близка к версии социалистического капитализма, действующего в Соединенных Штатах Америки, Ирландии, странах Прибалтики. Не могут не радовать и утверждения белорусских политиков о том, что шанс на проведение системных реформ может быть получен только после ухода Лукашенко с поста президента и последующей кардинальной перестройки политической системы. Впрочем, говоря об этом, оппозиционные лидеры нередко предлагают свои проекты действующей власти.
В случае демонтажа нынешнего режима в Беларуси и начала перехода к современной смешанной рыночной экономике за будущее этой страны можно будет не опасаться. Российская Национальная ассамблея также должна будет в определенное время предъявить обществу альтернативные законопроекты и программы. Мы можем и должны это сделать. Прошедшее 7 июня заседание Бюро Ассамблеи вселяет уверенность в том, что это возможно.
Впереди у нас много работы. Во всех сферах. На всех фронтах.